КРАЙ ЖИЗНИ
«Комсомольская правда», 30 апреля 1994 года.
Василий Нелюбин. Красноярск.
Минувшую зиму Астафьев прожил затворником — работал над вторым томом «Проклятых и убитых». Никто об этом не говорит вслух, но умом-то мы все прекрасно понимаем, что он пишет не просто очередную книгу. Рождается последний роман о войне, написанный участником той войны. Время неумолимо: полвека, отделяющие нас от Парада Победы,— слишком серьезный срок для человеческой жизни. Для солдатской жизни — тем более. Наверное, лучше нас с вами понимает это Виктор Петрович. Работает неистово, месяцами не выходя «в свет». Понимают это и фронтовики, приславшие ему после выхода «Чертовой ямы» — первой книги его романа — десятки писем. «Я не верю в Бога, но Вы, Виктор Петрович, призваны Всевышним кончить этот труд. Если не Вы, то кто же? Только Вам, видно, дано закончить сказку о солдате, списанном с этого света. Вы вытащите непосильную ношу, так как Вам помогает дух миллионов солдат. Вы же знаете, что убитые солдаты в гробах не лежат. Уверен и знаю, что и вторая, и третья книга «Проклятых и убитых» появится. И не надо послесловий. В. Бекетов, фронтовик».
В конце марта Виктор Петрович передал рукопись «Плацдарма» — второй книги своей трилогии о войне в «Новый мир». А через несколько дней, за полтора месяца до своего 70-летнего юбилея,cлег в больницу. Где он и согласился дать это интервью «Комсомолке».
— Невероятно тяжело далась мне эта книга. 550 страниц смерти, крови, края жизни. Это ад кромешный. Я был там в восемнадцать — девятнадцать лет. Молодой организм, короткая память, беспечность и многое другое, что свойственно, слава Богу, молодости, помогали не сойти с ума. Поел, выспался — тебе уже хорошо. Но сейчас, в моем
возрасте пропускать скова все это через память, через сердце невероятно тяжело. И, мне кажется, я так и не дотянул до такой трагедии, чтоб сердце раскалывалось. Хотя жена моя — Марья Семеновна, которая семь раз перепечатывала рукопись, некоторые страницы просто отказывалась читать. Она тоже была на войне…
— Полвека минуло с той поры. А вы снова я снова пишете о войне. Это дань молодости, погибшим друзьям, выбитому под корень поколению?
возрасте пропускать скова все это через память, через сердце невероятно тяжело. И, мне кажется, я так и не дотянул до такой трагедии, чтоб сердце раскалывалось. Хотя жена моя — Марья Семеновна, которая семь раз перепечатывала рукопись, некоторые страницы просто отказывалась читать. Она тоже была на войне…
— Полвека минуло с той поры. А вы снова я снова пишете о войне. Это дань молодости, погибшим друзьям, выбитому под корень поколению?
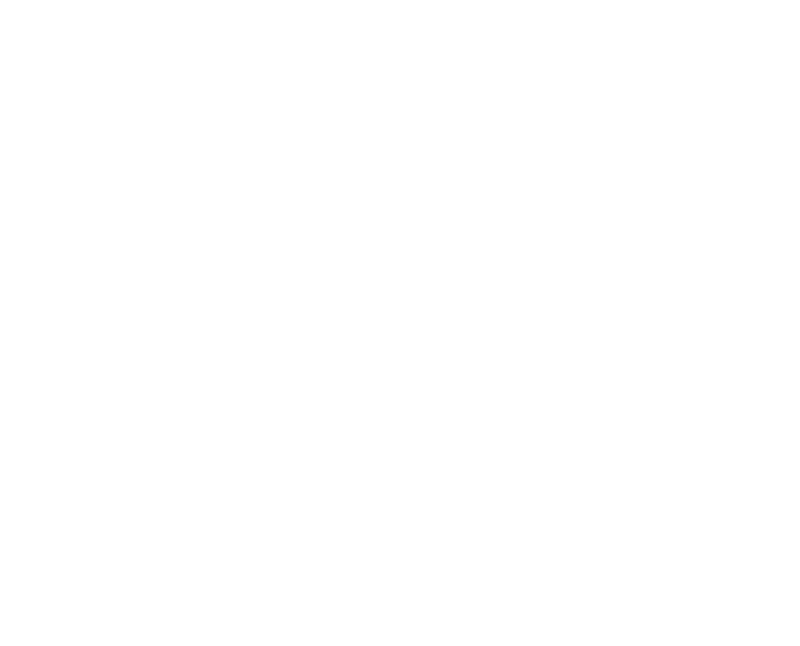
Интерьвью В. Нелюбина В. Астафьевым для газеты "Комсомольская правда"
— Сейчас, когдабольшая война в виде так называемых локальных конфликтов тлеет по границам России, писать о ней просто необходимо. Полно появилось народа, который снова жаждет кровушки. И одна из задач моих — хоть маленько напомнитьлюдям о войне и попугать. Впрочем, и пугать не надо, только писать правду о том, что было и все. этого достаточно для людей, которые окончательно не потеряли рассудка.
О той войне, по существу, правды-то еще и не писали. Ей посвящены эшелоны книг, но то, что действительно достойно считаться правдой,— уместится на половине моего письменного стола. Да и время должно было пройти, чтобы всю эту правду осмыслить и проявить.
Должен сказать, что немцы больше боятся войны, хотя меньше пострадали, чем мы. И в своей настойчивости в борьбе с неофашизмом они более принципиальны. Мы уже на все рукой махнули. Неофашист, коммунист, демократ — все едино. Нельзя так. Большевики вкупе с Жириновскими запросто устроят нам последнюю в нашей истории войну. Такая свалка начнется. Поэтому о войне обязательно надо писать, чтобы показать: вот она какая, вот чего вы хотите.
— Вторая книга вашей трилогии называется «Плацдарм. Действие, по-видимому, происходят на Днепре, который вам самому пришлось форсировать?
— В отличие от первой часта романа, в которой я был прочно привязан к конкретному месту действия, я называл его — были для этого причины, во второй — больше обобщенного материала. Я даже не стал называть имени реки, на которой развивается действие романа. Просто—Великая река. Не какой-то конкретный плацдарм, а просто плацдарм, как место, где люди убивают людей. Клочок Земли. И те восемь дней из жизни героев второй части романа вместили в себя всю войну, весь мой фронтовой опыт, все, что происходило со мной на той воине.

Я форсировал Днепр в составе 92-й артиллерийской бригады и был на Букринском плацдарме. Была такая деревня Великий Букрин. Тот плацдарм был самым маленьким, самым трагическим. Там, по существу, все погибли. А потом, уже после войны, это место еще и затопили. Кости моих однополчан лежат сейчас на дне киевского водохранилища.
После Букринского был у меня еще один плацдарм на Днепре. Не помню его названия. Не успел запомнить — ранили.
После Букринского был у меня еще один плацдарм на Днепре. Не помню его названия. Не успел запомнить — ранили.
— Год назад, когда вышла в свет первая книга «Проклятых и убитых», нашлось немало людей, заявивших, что Астафьев вновь сгущает краски. Судя по всему, после публикации в «Новом мире» «Плацдарма* эти обвинения обрушатся на вас с новой силой.
— Ну как можно,рассказывая о войне, краски сгустить. Грязь с кровью смешанная, куда еще гуще-то…
— Ну как можно,рассказывая о войне, краски сгустить. Грязь с кровью смешанная, куда еще гуще-то…
Мы должны знать правду о солдате, все годы войны существовавшего за гранью человеческого. Вот говорят: живет, как скотина. Нет, скотина живет все-таки в лучших условиях. Она не спит в окопе на земле, она спит на подстилке. Что такое, например, простоять в обороне зимой полтора месяца? Вы посмотрите, от войны ведь почти не осталось фольклора. Удивляюсь, как еще смог Александр Трифонович Твардовский написать хорошую книгу про бойца?! Про бодрого…
А кто сегодня берется вспоминать «правду» о войне? С передовой мало кто живым вернулся. А те, что вернулись, поумирали от ран да болезней. Вышли сейчас вперед комиссары, первые, вторые, седьмые отделы, смершевцы, трибуналыцики. Вот они выжили. А что с ними сделается! Они как ушли па фронт дубарями, так дубарями и вернулись. А ведь уходили на фронт и нежные ребята, начитавшиеся романов. А может, и ничего не начитавшиеся, но нежные.
Никто из нас — фронтовиков еще об этом не написал. Есть мера таланта, есть мера смелости — все понятно.
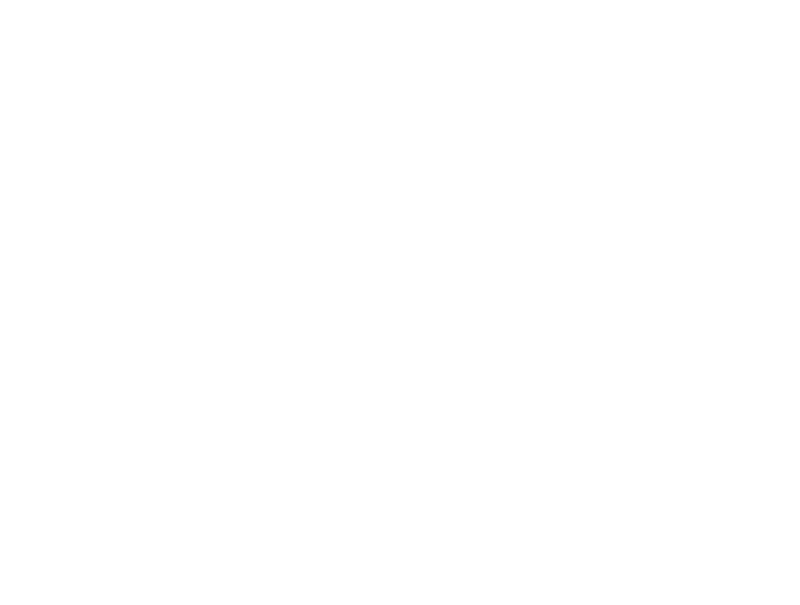
— В заключительной части романа вы собирались рассказать о послевоенной жизни своих героев. Будет ли она светлее двух предыдущих книг?
— Вряд ли. Ведь в нашей жизни было все совсем не так, как в «Кавалере Золотой Звезды». Это был еще более затяжной и изнурительный бой, в котором погибло еще больше людей, чем на фронте. И погибло мучительно, доверясь тому, что после Победы они, несомненно, будут жить лучше. А умирали фронтовики не только от ран. Кто-то спился, кто-то от такой жизни удавился... А сколько матерей погибло только потому, что после войны были запрещены аборты. И то, что у нас и сегодня идет сокращение русского населения,— прямое последствие той войны. Люди жили настолько бедно, что даже двое-трое детей были для большинства семей непозволительной роскошью. Население Союза росло исключительно за счет Средней Азии и Кавказа.
— Вряд ли. Ведь в нашей жизни было все совсем не так, как в «Кавалере Золотой Звезды». Это был еще более затяжной и изнурительный бой, в котором погибло еще больше людей, чем на фронте. И погибло мучительно, доверясь тому, что после Победы они, несомненно, будут жить лучше. А умирали фронтовики не только от ран. Кто-то спился, кто-то от такой жизни удавился... А сколько матерей погибло только потому, что после войны были запрещены аборты. И то, что у нас и сегодня идет сокращение русского населения,— прямое последствие той войны. Люди жили настолько бедно, что даже двое-трое детей были для большинства семей непозволительной роскошью. Население Союза росло исключительно за счет Средней Азии и Кавказа.
В 50-х годах я работал в районной газетке на Урале,повидал, как жили люди после войны. Колхозники, совершенно ограбленные и униженные, были доведены до такой нищеты, что и вообразить трудно. Сейчас хоть одежонкой какой-то прикрыта вся наша нищета, а тогда — телогрейка прожженная, залатанные штаны, невероятные, из какого-то брезента сшитые юбки. И налоги, налоги, страшные налоги, подписки на облигации. Войдешь в избу — не то что тряпочки какой, занавески на окне не увидишь — один стол скобленый.
Помню, приехал на собрание одной колхозной бригады писать материал для газеты. Убогая избенка. На столе — кормовая соль и печеная картошка. Собрание ведет бригадир-фронтовик, нет левой руки, нет ноги: «Надо, бабы, надо». Они в ответ: «Ну что ж, Степан Петрович, надо, так надо». Они этой картошки поедят, одна за другой выскакивают блевать. Ни одного мужика в бригаде. Все повыбиты! Как одиноких, беззащитных баб не обидеть? Как их не обобрать? И всевозможные уполномоченные, насланные из райкомов и райисполкомов, тут как тут.
А что у них можно было забрать? В чем работают — в том и спят. Детей перехоронили. На новых — мужиков нет. Скотина в избе — редкость. А если у кого завелась — давят: сдай молоко, сдай масло, яйца, шерсть.
Мы с Марьей одного ребенка схоронили маленького, второго—взрослого, не без влияния того, что когда она была маленькой, нечем было кормить ее, у нее сердце было больное, и в 39 лет она свою земную схватку закончила. И мы не одни такие. Народ надсажен был. И расправу учинять с этим доверчивым народом было легко. И ее начали.
Почему Сталин так сурово отнесся к народу, который спас ему шкуру? Ему и его товарищам спас шкуру именно народ, а никакие не полководческие гении. Не было никаких гениев. Все это глупости. Залили кровью, завалили немцев трупами. Победил народ, которому вытянули последние жилы. И вот этот обманутый народишко попал в Польшу, Германию, Австрию и собственными глазами увидел: все, что ему говорили комиссары, все, что писали советские газеты о капитализме— неправда. И народ этот стал опасен.

После каждой большой войны в истории человечества обязательно были народные волнения. Сталин прекрасно понимал, что и у нас они обязательно начались бы. Вернулись бы фронтовики в нищие колхозы, где остались одни бабы надорванные да запушенное хозяйство. Сначала бы поворчали, а потом бы за колья взялись...
Никто так не боялся своего народа и небоится до сих пор, как наше правительство. Потому что с первого дня своего существования, с 1917 года, вступила советская власть с этим народом в конфликт. Вся ее история — это сплошные расправы, голод, раскулачивание, коллективизация... Все время в конфликте со своим народом. За слово, за малейший проступок, по доносу людей сажали в лагеря. После войны стараниями Иосифа Виссарионовича и его компании погибло больше 15 миллионов человек. По большей части мужиков, чудом выживших на той войне. Дело дошло до того, что в России просто некому было воспроизводить население. У нас были деревни, особенно на северо-западе, где по 15 лет не видели ребенка в глаза. А женщины постепенно старились, перегорали, умирали.
У вернувшихся с фронта была надежда. И было еще какое-то чисто физиологическое ощущение того, что ты остался жив. Мы смертей видели очень много, привыкли к ним, аогромным счастьем считали то, что удалось выжить в этом кошмаре. И поэтому на первых порах какие-то трудности, голод и хроническая нищета переносились как будто легко.
У вернувшихся с фронта была надежда. И было еще какое-то чисто физиологическое ощущение того, что ты остался жив. Мы смертей видели очень много, привыкли к ним, аогромным счастьем считали то, что удалось выжить в этом кошмаре. И поэтому на первых порах какие-то трудности, голод и хроническая нищета переносились как будто легко.
У нас сейчас поныть - поплакаться все горазды, но такой трудной жизни, как в 1946— 1947 годах, просто и не вообразить. Тогда все плохо жили. Кроме, конечно, партийных работников и начальников. А через повальное воровство, через приспособленчество, обман постепенно исчезал честный рабочий класс. Крестьянство же вообще было сразу обречено воровать, с того самого времени, как образовались колхозы. Ему иначе было просто не выжить. Кто воровал — тот выживал, кто не воровал - тот помирал.

— Виктор Петрович, когда вы будете писать обо всем этом?
— Не знаю. Видимо, не скоро возьмусь за третью книгу. Нужен очень серьезный отдых, хотя у нее уже есть набросок. Увторой не было.
— После завершения большого серьезного труда вы давали себе отдых работой над чем-то более легким. Так, после «Царь рыбы» появилась «Одна русскому огороду», после «Печального детектива» - «Затеси» и рассказы о природе…
— Поближе к осени думаю взяться за веселую повесть для ребят о смешной собаке. А после нее, даст Бог, вернусь к роману о войне.
— Вы считаете, что именно он будет самой главной вашей книгой, самым главным делом вашей жизни?
— Не знаю. Видимо, не скоро возьмусь за третью книгу. Нужен очень серьезный отдых, хотя у нее уже есть набросок. Увторой не было.
— После завершения большого серьезного труда вы давали себе отдых работой над чем-то более легким. Так, после «Царь рыбы» появилась «Одна русскому огороду», после «Печального детектива» - «Затеси» и рассказы о природе…
— Поближе к осени думаю взяться за веселую повесть для ребят о смешной собаке. А после нее, даст Бог, вернусь к роману о войне.
— Вы считаете, что именно он будет самой главной вашей книгой, самым главным делом вашей жизни?
— Делом — да, наверное. Я к этому роману долго готовился, и хорошо, что не взялся за эту работу раньше. Мне было бы просто не поднять такую книгу. Впрочем, одно для меня важное дело я уже сделал — написал «Последний поклон», в котором рассказал о всех своих родственниках, о сибирских нравах, жизни и трагедии. Эта книга впервые в полном объеме вышла на днях в красноярском издательстве «Офсет».
— Я открыл для себя писателя Астафьева студентом, когда мне в руки попал томик «Царь-рыбы». Во многом благодаря именно «Царь-рыбе» я уехал работать в Красноярск, чтобы увидеть Енисей, познакомиться с акимами…
— Как-то рыбачу я на Енисее, пристает неподалеку к берегу комарами изъеденный, лохматый какой-то человек, пьющий, видно, уже не один день, и интересуется: правда ли я тот самый писатель, что сочинил «Царь-рыбу»? В свое время книжка эта прошла по Енисею: кто читал, кто слыхал, но все отгадывали в книжке себя и своих знакомых: это — Митька, это — Васька… Была и у этого мужика моя книжка, какая-то вся побитая. Видно, что и в воде она не раз побывала, и водярой ее, чувствуется, обливали.
— Правда, ты ее написал?
— Ну, правда. И что?
— Вот ведь книга, памаш, какая… Она и у меня, браконьера, в лодке лежит, и у рыбнадзора…
— Я открыл для себя писателя Астафьева студентом, когда мне в руки попал томик «Царь-рыбы». Во многом благодаря именно «Царь-рыбе» я уехал работать в Красноярск, чтобы увидеть Енисей, познакомиться с акимами…
— Как-то рыбачу я на Енисее, пристает неподалеку к берегу комарами изъеденный, лохматый какой-то человек, пьющий, видно, уже не один день, и интересуется: правда ли я тот самый писатель, что сочинил «Царь-рыбу»? В свое время книжка эта прошла по Енисею: кто читал, кто слыхал, но все отгадывали в книжке себя и своих знакомых: это — Митька, это — Васька… Была и у этого мужика моя книжка, какая-то вся побитая. Видно, что и в воде она не раз побывала, и водярой ее, чувствуется, обливали.
— Правда, ты ее написал?
— Ну, правда. И что?
— Вот ведь книга, памаш, какая… Она и у меня, браконьера, в лодке лежит, и у рыбнадзора…
«Царь-рыба» появилась в определенный период какой-то всеобщей тоски по покинутой деревне, по естеству природному, которое вылилось в массовое строительство дачек вокруггородов. Яполучил множество писем от читателей, по преимуществу городских, по поводу «Царь-рыбы», «Последнего поклона» с тем ощущением, что нас, родившихся и живущих в городе, жизнь обобрала. Люди думали, что бросят они плуг, грязную землю, съедутся в города и станут счастливыми братьями. А, поселившись в стандартные бетонные многоэтажки, стали разобщены еще больше.
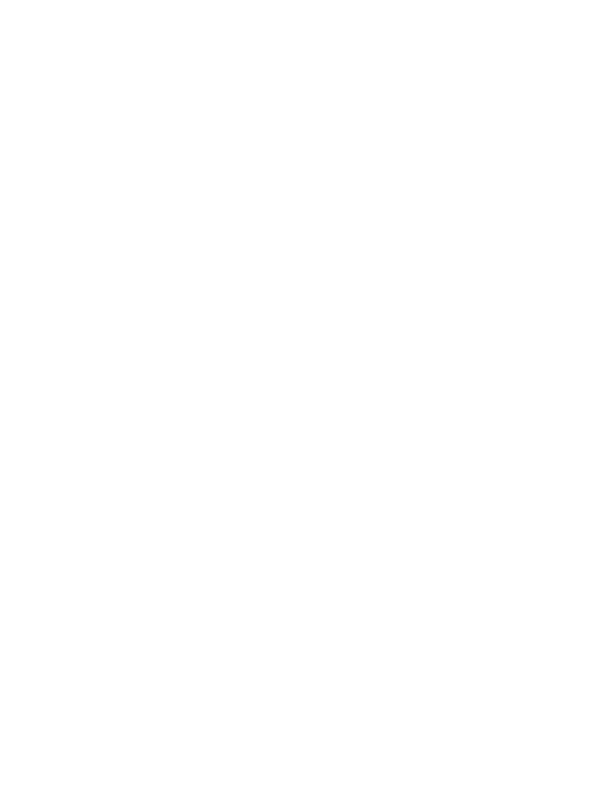

— Виктор Петрович, а какую из своих книг вы любите больше всего?
— «Пастуха и пастушку».
— Почему?
— Наверное, потому, что лучше других написана, чище. Она не толстая. Не люблю своих толстых книг. Но для того, чтобы довести повесть до такого объема, мне пришлось переписывать ее не единожды. Последний раз я это сделал лет пять назад. Что еще? Женщина там очень симпатичная, загадочная. Это все, конечно, частности. А главного не объяснить.
— Но есть ли у вас уверенность, что слова ваши доходят до людей, предпочитающих в последнее время любой, самой хорошей книге «Санта-Барбару» и «Просто Марию»?
— Я над этим очень много думал. Мне кажется, что мои книги — это какая-то небольшая частица общечеловеческой культуры. Ведь если бы не книги, музыка, живопись — нас бы на земле уже не было. В этом я сейчас совершенно убежден. Человечество спас только его гений. Причем люди этому гению все время сопротивляются. Сколько гениев выбили еще в молодости, а сколько их сами себя сгубили. Думаю, с этой точки зрения накопление культуры, существование самой культуры, влияние ее на воспитание человека неоценимо. Культура и вера в Бога — только на этом продержалось человечество последнее тысячелетие. Не будь этого, человек давно бы уже ползал на карачках, снова вернулся бы в пещеры, тем более что очень многим туда хочется.
— Я над этим очень много думал. Мне кажется, что мои книги — это какая-то небольшая частица общечеловеческой культуры. Ведь если бы не книги, музыка, живопись — нас бы на земле уже не было. В этом я сейчас совершенно убежден. Человечество спас только его гений. Причем люди этому гению все время сопротивляются. Сколько гениев выбили еще в молодости, а сколько их сами себя сгубили. Думаю, с этой точки зрения накопление культуры, существование самой культуры, влияние ее на воспитание человека неоценимо. Культура и вера в Бога — только на этом продержалось человечество последнее тысячелетие. Не будь этого, человек давно бы уже ползал на карачках, снова вернулся бы в пещеры, тем более что очень многим туда хочется.
В первый раз я это по-настоящему почувствовал в Мадриде, в «Прадо». Знал, конечно, об этом и раньше, но как-то смутно, неоформленно. «Прадо» - это великая галерея. Она отличается от нашего «Эрмитажа» и других известных музеев своей компактностью и тем, что там нет проходных вещей, только настоящее искусство. И я понял, что вот это все, что я увидел, влияло на человека больше любого политика, сильнее, чем любая проповедь.
Второй раз я это остро почувствовал, когда был у Гроба Господня в Иерусалиме. Здесь, как и в «Прадо», человек погружается в какую-то сферу благоговения. Есть такое прекрасное слово, которое мы забыли. Оно чаще употребляется в отношении церкви, но искусство, видимо, тоже дело святое. Соприкасаясь с церковью и настоящим искусством, человек становится способен сострадать и чувствовать прекрасное. Он начинает чуть-чуть лучше относиться к другим и к себе. Человек-то ведь задуман Богом хорошо. И земля ему хорошая подарена. Но бес, сатана мутят его постоянно. Я наблюдал, как входят люди в храм Гроба Господня — скучающие экскурсанты. А когда выходят — у них лица совершенно иные. На них какая-то просветленность. Оказывается, бессознательно человек—коммунист он или анархист, не имеет значения — готовится к этому моменту всю жизнь. Если есть у него сердце и хоть капля теплой крови. А поскольку он живой не встречается с Богом, он встречается с прекрасным.
Мы в безбожной стране выросли, но и мы, соприкасаясь со словом, молитвой, музыкой, природой, которую нам Господь подарил, тоже все время, каждый день, каждым шагом готовимся к встрече с Господом. Уж как Его кто представляет. Вероятно, где-то есть точки соприкосновения с Ним, и одна из них в Иерусалиме. И я думаю, если каждому бы человеку дали возможность побывать у Гроба Господня, да хотя бы чаше показывали его по телевизору, то это было бы благое дело. Но нам не до этого, заседания парламента надо показывать.
— Виктор Петрович, вы всю свою жизнь прожили в провинции: в Пермской области, в Вологде, в Красноярске. Отчего не перебрались жить в Москву? Неужто не приглашали?
— Приглашали, конечно. В первый раз, когда я еще жил на Урале, учился на высших литературных курсах. Конечно, в столице больше профессионального общения, хотя сейчас мне это общение не так остро нужно, устал от толпы, влечет одиночество. В столице доступнее культура. Хотя диких людей там ничуть не меньше, чем в Красноярске или Новосибирске.
— Приглашали, конечно. В первый раз, когда я еще жил на Урале, учился на высших литературных курсах. Конечно, в столице больше профессионального общения, хотя сейчас мне это общение не так остро нужно, устал от толпы, влечет одиночество. В столице доступнее культура. Хотя диких людей там ничуть не меньше, чем в Красноярске или Новосибирске.
У меня есть свое понимание комфорта. Мне надо обязательно работать дома или в деревне, в своем углу за столом. Я очень долго настраиваюсь, но работаю лихорадочно быстро. Как они в Москве пишут? Я не представляю. Вырывают себе какой-то кусок времени? Ведь все они где-то служат.
Очень важны для меня первозданность впечатлений, первозданность языка. Москва — это не мое. Исходное сырье для писателя все-таки язык, я должен жить среди него. Можно нахвататься чего-то, у нас таких умельцев-сочинителей предостаточно. Провинция дает художнику ощущение естественности. И сам он естественней становится, и жизнь его естественнее течет.
— Виктор Петрович, вы родились в красный день календаря — 1 Мая. Это обстоятельство как-то отразилось на том, как вы свой день рождения отмечаете?
— Мне в праздники всегда хотелось плакать. В раннем возрасте, когда у нас в избе собирались гости выпить, песни попеть, я обычно забирался на полати и плакал. Бабушка меня жалела, успокаивала: «Порченый ты у нас, Витька…» Когда я увидел первую елку в 1939 году в Игарке, тогда их вновь разрешили ставить, она мне показалась царственно прекрасной. Я разрыдался, убежал куда-то, спрятался.
— Мне в праздники всегда хотелось плакать. В раннем возрасте, когда у нас в избе собирались гости выпить, песни попеть, я обычно забирался на полати и плакал. Бабушка меня жалела, успокаивала: «Порченый ты у нас, Витька…» Когда я увидел первую елку в 1939 году в Игарке, тогда их вновь разрешили ставить, она мне показалась царственно прекрасной. Я разрыдался, убежал куда-то, спрятался.
Я очень тяжело переношу всякое праздничное возбуждение. Поэтому не бывал никогда ни на каких демонстрациях, митингах. Помню, когда приезжал на съезды писателей и начиналось это многолюдное братание, я чувствовал себя крайне неуютно, нервно, меня прошибалодо пота.
Нынешний мой день рождения мы будем отмечать в семейном кругу. Сын приедет из Вологды с семьей, наша деревенская родня. Посидим своим кругом, попоем, если сможем, что-то выпьем. А официальное празднование моего юбилея начнется на следующий день. Я был бы рад, если бы городские власти большого праздника не затевали, но люди меня убедили, и, наверное, они правы, что это нужно не только мне. Может быть, в моем лице будет в какой-то мере вспомнена и почтена русская литература, которая в невероятно трудных условиях все-таки продолжается.
— Как вы ощущаете себя на пороге своего 70-летнего юбилея?
— В стране под названием Россия, где на одного литератора — долгожителя приходится сотня убитых на войне и на дуэлях, сгноенных в казематах, каторгах и тюрьмах, сгоревших от загула и чахотки, наложивших на себя руки, домаявших век в сумасшедшем доме или иссохших от тоски по Родине в чужеземье задолго до Христова возраста, дожить до 70 лет — не просто чудо и удача, а какое-то свыше выданное соизволение и награда.
— В стране под названием Россия, где на одного литератора — долгожителя приходится сотня убитых на войне и на дуэлях, сгноенных в казематах, каторгах и тюрьмах, сгоревших от загула и чахотки, наложивших на себя руки, домаявших век в сумасшедшем доме или иссохших от тоски по Родине в чужеземье задолго до Христова возраста, дожить до 70 лет — не просто чудо и удача, а какое-то свыше выданное соизволение и награда.

Первая встреча В.Нелюбина с В.Астафьевым в редакции газеты "Красноярский рабочий"
Я полагаю, что мне Господом зачтен недожитый срок земной моей мамы — Лидии Ильиничны Потылицыной. Самой невинной и трагической жертвы современного разгула жестокости и немилосердия. Она погибла в 29 лет. Но, может быть, и сам я трудом своим, начатым на усть — манской пашне в 9 лет и не оставленным до сих пор, заслужил какое-то снисхождение судьбы?
Всегда старался за кусок хлеба, данный мне добрыми людьми, ответить тем же. И еще, наверное, потому, что, осознавая многие грехи свои, в том числе и кровавые, пусть и не всегда по моей вине творимые, на войне, скажем, не хотел и не пытался навязать их другим людям, но мучался ими и искупал их сам. Опять же трудом и тихой молитвой. Постараюсь, и, надеюсь, Бог мне в этом поможет, дожить оставшиеся годы таким, каким он меня сотворил и отправил в жизнь. То есть всегда оставаться самим собой и добром, а не злом продолжиться в моих внуках, книгах и в природе.


