РЕЧНОЙ ПИСАТЕЛЬ
Михаил Тарковский
Так случилось, что в двадцатом веке именно исконные, почвенные писатели взяли на себя ношу великой русской литературы и, поразив своими книгами самых щепетильных читателей, стали настоящими классиками. Литература наша, всегда жившая живым, настоящим, корневым, отторгая город с его элитарностью и западными веяниями, обманула цивилизацию и проложила себе основное русло через Сибирь—край, где русское ещё сохранилось нетронутыми очагами, как клочками местами оставался соболь после убийственного перепромысла в начале двадцатого века.
Сто раз говорено, что город, пусть самый красивый и значимый,—человечье детище и наследует все человечьи грехи. В отличие от него природа—творение Божие, именно поэтому такая мощь и исходит от неё, и, питая художника, она заставляет соответствовать, равняться, а иногда и выстраивать себя заново. Эта нечеловечья мощь ярче всего проявляется в сибирских реках, не только могучих на вид, но и важнейших по сути, поскольку от них напрямую зависит жизнь в этих суровых краях: это реки-дороги, реки-кормилицы, реки-учителя...
Нежная и разнообразная разливистая Ангара с протоками и островами и Енисей—норовистый мужик с прямым и крепким характером. Но везде река—как мера, как основа, а природа—как учитель, как стержень, ведь именно её годовой круговорот и руководит человеком, требуя лишь одного—быть её достойным. Это касается любого дела—и рыбацкого, и охотницкого, и плотницкого. И писательского тоже! И как прекрасно выравнивается жизнь каждого человека Енисеем или Ангарой! Как почётно и писателю быть таким же учеником, как простой ангарец или сельдюк, как герой «Царь-рыбы» Акимка, для которого главный сюжет его жизни—Енисей.
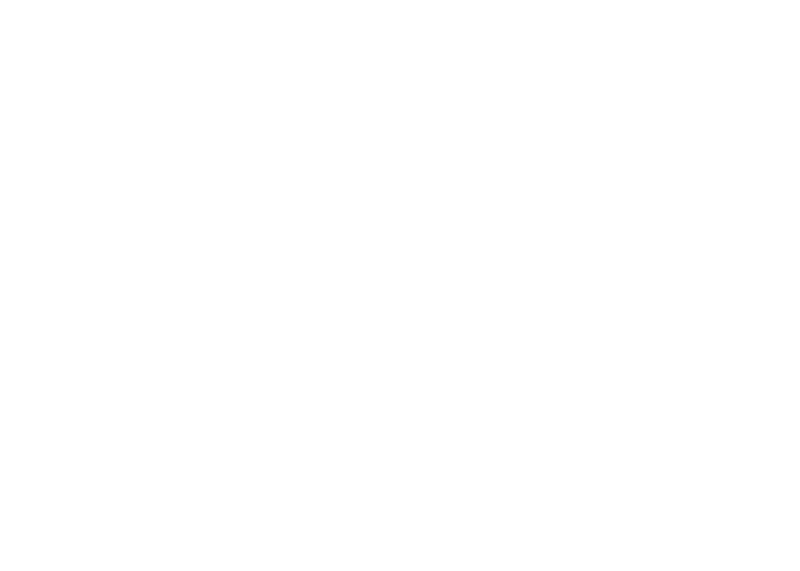
Поперечник России в районе Красноярья, то есть расстояние от юга Тувы до Диксона на Таймыре,—примерно четыре тысячи километров. Да разве кому-нибудь на западе придёт в голову, что Смоленск и Мурманск, стоящие на одной долготе,—части единого и строгого целого? А на родине Астафьева так оно и есть: Енисей—это один мир, одна территория, объединённая одной рекой-дорогой, огромной, крепкой, мужественной.
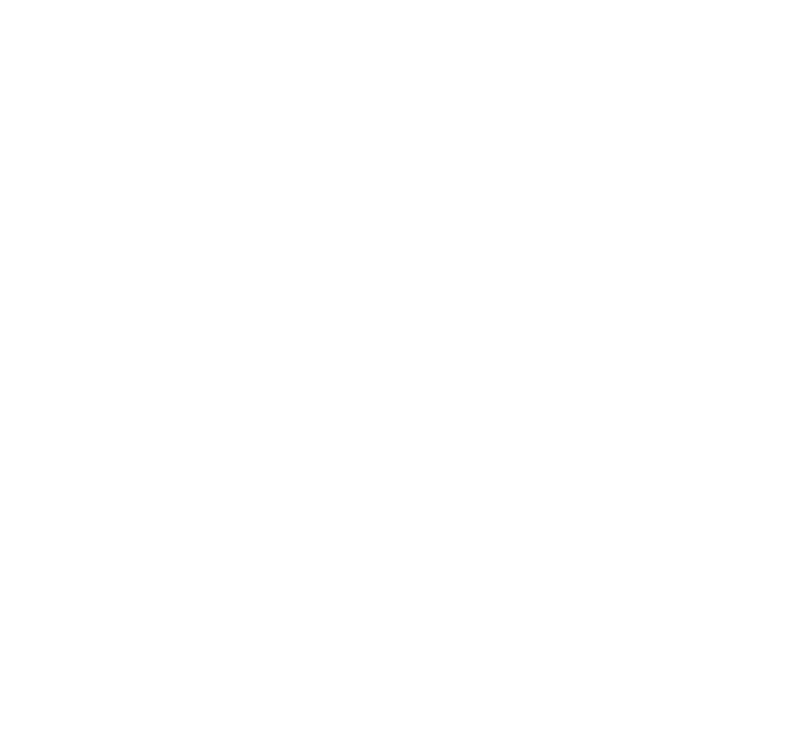
Киселев Г. Виктор Петрович Астафьев. 2018
Филиал КГАУК «Красноярский краевой краеведческий музей»
И писатель—под стать Енисею: такой же кряжистый, крепкий, мужицкий и в своих книгах насквозь речной—пароходский, лодочный, рыбный. Описанию различных рыбин и рыбалок посвящены многие строки его произведений. Сами названия за себя говорят: «Карасиная погибель», «Уха на Боганиде», да и «Царь-рыба». Детство писателя прошло на берегах Енисея—от Овсянки на юге до приполярной Игарки: неплохим плечом длиной в тысячу семьсот вёрст пролегла человеческая судьба! Крепко, пуповинно перевязана она с великой рекой. Так крепко, что крепче не бывает: матушку писателя навечно забрали суровые воды.
Пересказывать писателя бесполезно, хочется дать главную ноту, отзвук, с каким прозвучал Виктор Петрович в лучших своих книгах: «Последний поклон» и «Царь-рыба». Нота эта так же разнообразна, как батюшка сам Енисей в разные времена года, в разную погоду. Но она всегда исповедальна, летописна, житийна. Она жива по законам лирики, и всё происходящее сугубо субъективно и пропущено через «я» автора. Она пронзительно поэтична и стихийна—а ведь было у кого учиться этой стихийной мощи, когда «батюшка-Анисей» под боком!
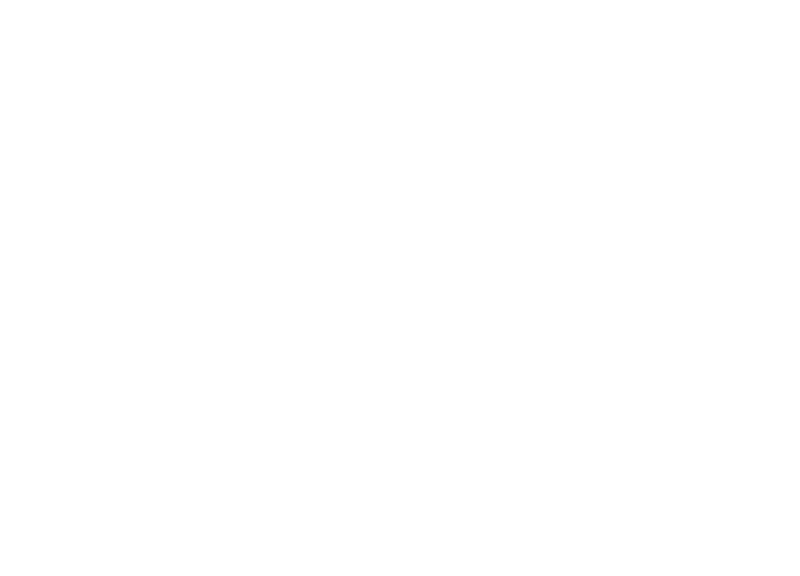
Виктор Петрович не делил литературу на жанры и всегда в едином напряжении силы и честности писал о своём главном и в повестях, и в «Затесях», и в предисловиях. И так же звучал его голос в выступлениях. И как чередуется на Енисее сизый штормовой вал с зеркальной безмятежной гладью, так мешается в его произведениях то погибельная интонация довоенных рыбалок, то звонкая, как росистое таёжное утро, симфония жизни, то тихое, как белая ночь, откровение. И всегда его голос остаётся пронзительным, как возвращение молодого Витьки с войны к стремительно постаревшей бабушке.
До чего сибирские реки огромны и, что ли, линейны! С парохода и особенно с вертолёта планетарно бескрайними выглядят плёсы, береговые линии, как по линейке выровненные непомерной работой воды и льдов . С галечниками, поймами, островами... Кажется, огромные ножи лежат, металлически поблёскивают на солнце, наждачно синеют. Как побороть пером это величие, как подобраться к гладкой алюминиевой шкуре, не соскользнуть с алмазного лезвия плёса, как всверлиться, прокопаться, каким надфильком? Каким буром забуриться в двухметровый лёд, чтоб заговорила речная громада, живым бугром пробилось слово, заходило по кругу, забирая душу? Никто особо и не пробовал— и вот Виктор Петрович впервые в истории взялся за батюшку-Енисея. Только догадываться можно, как трудно ему было первому... И вот сделал он шаг, ступил из стальной параллельности в этот бурелом, чапыжник, «шарагу, вертепник или попросту дурнину».
С какой любовью Виктор Петрович разгребает эти приречные завалы, роется в тальниках, черёмушниках, копается в самой мелочёвке, пытается разговорить «батюшку-Анисея» через какого-нибудь ручейничка или другого бикарасика. А дальше пошло-потянулось, и раскручивается, как верёвочка, великая круговая порука всего живого, великий Божий круговорот: харюз съел ручейничка, харюзка—таймешек, таймешка человек поймал—голодных ребятишек накормил... А глаза поднимешь—над всеми ними стоит приполярное небо вечной тишиной и учит художника вечной тишине и высоте, любви и смирению, умению каждой красочке-веточке дать место.
Всё-то у него сильное, говорящее: если речка—то угорело петляющая, если пелядка (рыба такая сиговая)—то аж вся жиром истекает...
Всё-то у него сильное, говорящее: если речка—то угорело петляющая, если пелядка (рыба такая сиговая)—то аж вся жиром истекает...

Всё делается с порывом, с размахом, повально: если уж рыба, то валит валом, если жрёт, то жрёт, комар если задавной, то задавной,—и в этой одушевлённости природных сил небывалым образом енисейская душа и выражается. Есть целые породы здешних мужиков, которые именно так и говорят, и чувствуют, одушевляя всё вокруг, и в первую очередь батюшку-Енисея. «Анисей воду взвёл», «теперь обират с берегов...»—то есть обирает с берегов лёд. Обязательно надо наделить природу волей, представить как некое огромное существо с огромными своими желаниями, хозяйственными заботами, по сравнению с которым человек мелочь, вроде ручейника.
Любимые герои Астафьева—дети батюшки-Енисея, принявшие его правила, живущие по его законам. Такое верное и святое дитя—Акимка, весь искорёженный жизнью, с брюхом, присохшим к хребту ещё с голодного тундряного детства, весь побитый морозами, кручёный, как полярная листвяшка из юности Виктора Петровича, и такой же несгибаемый, неказистый, тщедушный, но с огромной душой нарастопашку.
С великой нежностью относится Виктор Петрович к таким Божьим людям, которые будто на ладони со своими бедами-радостями. И не терпит обуянных гордыней, возомнивших себя сильней и независимей Бога. Гога Герцев вроде бы рукастый, опытный, тёртый и совсем не горожанин-белоручка. Он и с «тозовки» лупит отлично, и топорище у него ладное. Но нет, не пронять этим Виктора Петровича, поэтому и наказывает Гогу, этого персонажа-идею, даже не автор, а батюшка Енисей через одну из своих подопечниц-речек.
С великой нежностью относится Виктор Петрович к таким Божьим людям, которые будто на ладони со своими бедами-радостями. И не терпит обуянных гордыней, возомнивших себя сильней и независимей Бога. Гога Герцев вроде бы рукастый, опытный, тёртый и совсем не горожанин-белоручка. Он и с «тозовки» лупит отлично, и топорище у него ладное. Но нет, не пронять этим Виктора Петровича, поэтому и наказывает Гогу, этого персонажа-идею, даже не автор, а батюшка Енисей через одну из своих подопечниц-речек.

К слову: удивительно слабым и бесцветным выглядел фильм по одной из глав «Царь-рыбы» по имени «Сон о белых горах». Эта несколько приключенческая история, в которой многие не желали узнавать Виктора Петровича, на самом деле тоже вполне его. Енисейские охотники были особенно тронуты и взбудоражены ею. Помнится, ещё во времена, когда население по-настоящему жило книгами, один из них с жаром говорил: «Не, ну ты представляешь, приходит мужик в зимовьё, а там баба!» Этот момент, жизненный и острый, уловил своим чутьём Виктор Петрович: каждый охотник мечтал о таком приключении. А фильмец получился и вправду слабый: больше всего убило, что съёмщики даже поленились на Енисей слетать. Только в титрах идут осенние виды тайги, снятые с вертолёта, похоже, где-то под Красноярском, может быть, на любимой киношниками Мане. Остальное снято, скорее всего, в Карелии: европейская природа и совсем не похожий на тайгу елово-сосновый лесок и бараньи лбы. Да и малоубедителен главный герой, крепыш Кононов, если я, конечно, не путаю. Никак он не вяжется с тщедушным Акимкой. Не спасает даже суконная куртка-азям, к которой зачем-то пришили какие-то прямо газыри для патронов—никто в жизни на Енисее таких газырьков не видывал. Ладно...
Не принявшие правила справедливости и добра—не обязательно пришлые на Енисее. Почти так же жестоко наказан ещё один герой «Царь-рыбы», вроде бы уважаемый енисейский мужик Игнатьич, который оказался вовсе и не таким образцовым, как думалось, а при ближайшем рассмотрении и вовсе гнилым. Это рассказ о грехе и возмездии. И человек здесь не победитель, как в «Старике и море»,—а побеждённый, посягнувший на неподвластное, наказанный за эгоизм и жадность...
А для тех, кто не знает,—крючки самоловные штука действительно опасная, потому без ножа никто и не ездит на рыбалку: если вдруг подцепился в горячке—отмахнул коленце, и спасён. Тема эта старинная промысловая, да и, если смотреть шире, жизненная: поставил ловушки—гляди сам не влети.
Самолов ставят на течении, крючки привязаны капроновыми поводками к хребтине—верёвке с грузами, лежащей на дне. К крючку на симочке крепится пробочка, заставляющая крючок стоять, вибрируя на течении. На него и набрасывает струёй стерлядку или осетра. Всё дело в движущейся, скользящей водной стихии: чтобы понять работу cамолова, надо представить, будто не вода со стерлядками несётся сквозь ловушку, а наоборот—неподвижную воду, полную рыбин, тралят крючки. Никакая стерлядка, конечно, не «играется» с крючками—это для красного словца говорилось стариками, хотя в старину даже красные тряпочки привязывали к крючкам—чтоб интересней было рыбе «играться».
Рыба протыкается крючком за тело и болтается на течении, рвя шкуру, пока её не снимет рыбак. На самолов в основном ловятся рыбы бесчешуйные—шкура легче протыкается крючком.
Памятник Царь-рыбе по дороге в Дивногорск изображает осетра и раскрытую гранитную книгу Виктора Петровича. Только осётр почему-то попал в сеть, а не в самолов. Вряд ли скульптор не знал тонкости... А может, кто-то остерёг от изображения самолова: дескать, запрещённая снасть, лучше не лезть в эту болевую тему. Вдруг инспекция недовольна будет? А может, всё проще? И чисто художественно, архитектурно сеть для скульптора оказалась живописней, традиционней, фактурней.
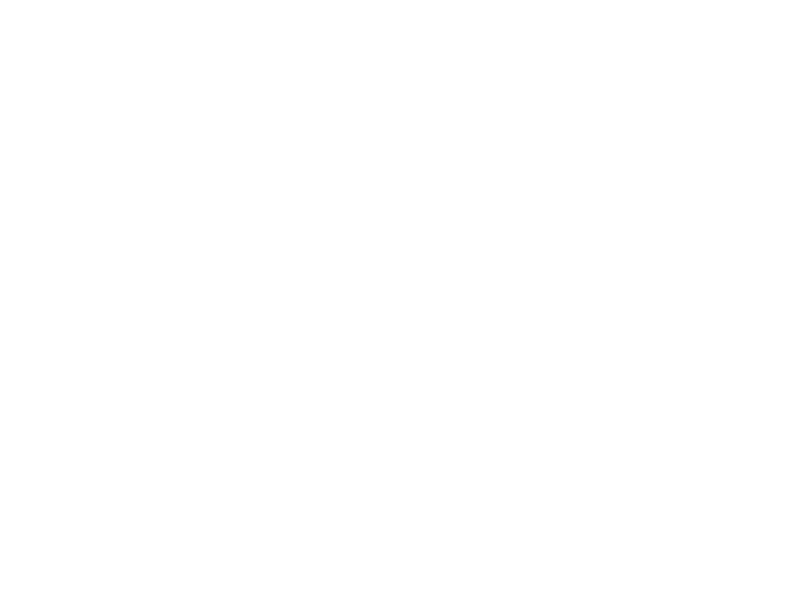
В прежние времена верёвка была не капрон, а обычная, гниючая, крючки—ржавейка, и пробочки из бересты, самокрученные, а главное—ставили и смотрели ловушку на гребях, а не на моторе. Всё это было нелегко и требовало большого труда. Да и аппетиты другие были: рыбой никто не торговал, как сейчас, а добывали «поись». Нынче борьба совсем уж неравная—о неравенстве её и писал Виктор Петрович.
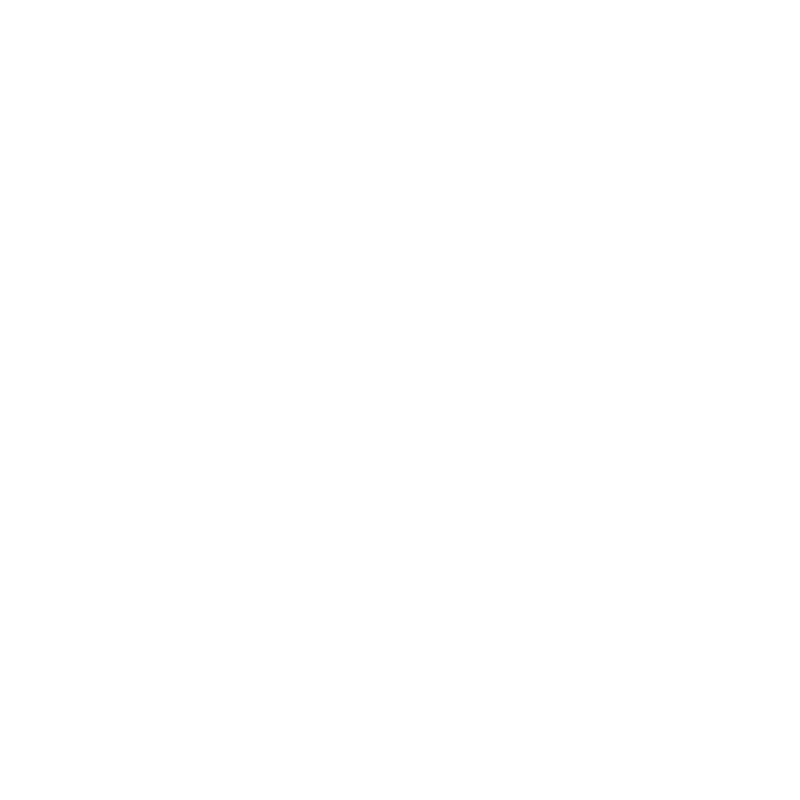
Снулых (то есть неживых, погибших) рыб выкидывают —ими можно отравиться; был случай, когда один командир «Ми-восьмого», поев в гостях такой осетрины, начал слепнуть в полёте и еле посадил машину. Ему повезло—зрение вернулось: отравление оказалось не сильным. Обычно рыба на самолове гибнет оттого, что ловушку редко проверяют,—если вовремя смотреть, ничего подобного не будет. Высмотру самолова могут мешать две вещи: сильный вал на Енисее или подошедшая рыбинспекция. Тогда рыба и пропадает. Мужики бухтели на Виктора Петровича, что сгустил краски, описывая самоловщиков. Долго обсуждалось, как «прописал неправильно», «во скоко выкинул снулой стерлядки», «так не быват», «да и вообще нас, браконьеров, не понял» и так далее.
Рыбаки-охотники любят, когда их жизнь описывают с дотошностью пособия по промыслу, да ещё и с одобрением и восхищением их трудом и образом жизни. Не на того напоролись. Астафьева с его обнажённой, всеотзывчивой душой по сердцу резала жестокость этой ловушки, то, что рыба мучается часами, рвя шкуру, срывается, калечится. И писателем руководила не жажда создать фотографической точности документ, а боль за Божью тварь и ненависть к хапужничеству.
Но ещё сильнее болел он, задавая главный вопрос: да почему на такой богатой земле так нескладно всё выходит, как в этой Шуши, где всего несколько машин, которые давят народ, и почему в посёлке Бор, который стоит в таком прекрасном месте (это уже из «Затесей»), такая осталась помойка от экспедиций? Восхищение Божьим миром и горечь за нерадивость людскую—вот главные ноты его творчества.
У Астафьева—обострённо-кровное чувство «нашего»: по-другому и быть не может, если чувствуешь свою землю так, что сколько книг ни пиши, а всё равно будто и не сказал ничего... Всё в начале пути—оттого-то и написано так много.
Мой любимый рассказ Астафьева — «Капля». Прочитайте его отдельно. День на него выделите. Отрешитесь от всего. Вот сейчас только перечитал в который раз—и снова накатило, когда подобрался к этой великой таёжной ночи на речке Опарихе; несколько раз останавливался, откладывал книгу... Когда читаешь подобное про Сибирь, душа такого трепета достигает, что кажется: нет уже авторства у этих слов—а есть нечто необъятное, наше общее с писателем, и что испоконно эти огромные слова существовали... И в который раз ты вместе с Астафьевым встречал это пронзительное утро, подкравшееся так незаметно за размышлениями о главном.
Необыкновенно тонко описаны все состояния тайги, причём обязательно как единого целого, как круговорот взаимообязанностей. За версту слышно неловко севшую в дерево капалуху (глухариную мамку).
Необыкновенно тонко описаны все состояния тайги, причём обязательно как единого целого, как круговорот взаимообязанностей. За версту слышно неловко севшую в дерево капалуху (глухариную мамку).
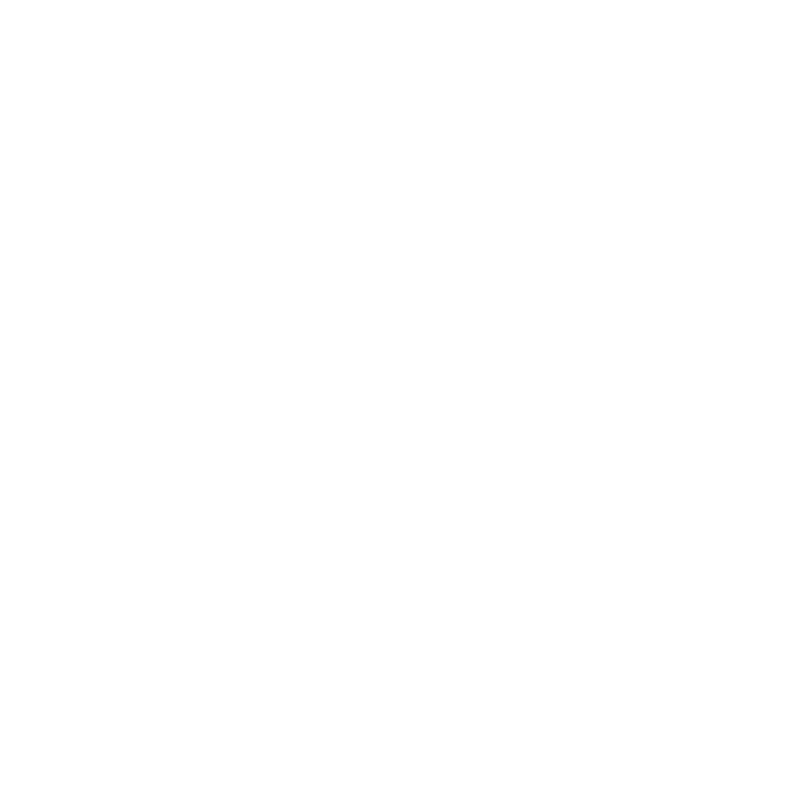
Крохали, сплавляющиеся по речке, озадачены костром и насторожённо перекликаются. В тайге бывает издали слышно, как капалуха или глухарь садится в дерево,—этот звук жизненно значим для охотника: когда собака осенью на охоте поднимает глухаря, необыкновенно важно, улетел он или всё-таки сел. Крохали—есть на таёжных речках такие рыбоядные утки с клювом как пилка, только мягоньким,—почуяв-увидев костёр, будто их скравший, начинают беспокоиться, переговариваться: подмечено это необыкновенно тонко. А сова! Которая уменьшилась, оплыла, прижав перо к телу! В каждой такой строчке—целый огромный мир, целая картинка, и одна жалость: что полностью дооценить может лишь тот, кто всё это сам пережил. Жаль этих людей, тех, кому не повезло, но зато у них есть возможность с чистого листа представить себе картину так, как подскажет им воображение.
И снова читаешь, со светлой завистью отмечая слово «сеево»: «Серебристым харюзком мелькнул в вершинах леса месяц, задел за остриё высокой ели и без всплеска сорвался в уремную гущу. Сеево звёзд на небе сгустилось, потемнела речка, и тени дерев, объявившиеся было при месяце, опять исчезли».
И дальше: «Чуть приостановив себя на выдавшейся далеко белокаменной косе, взбурлив тяжёлую воду, батюшка Енисей принимал в себя ещё одну речушку, сплетал её в клубок с другими светлыми речками, речушками, которые сотни и тысячи вёрст бегут к нему, встревоженные непокоем, чтоб капля по капле наполнять силой вечное движение».
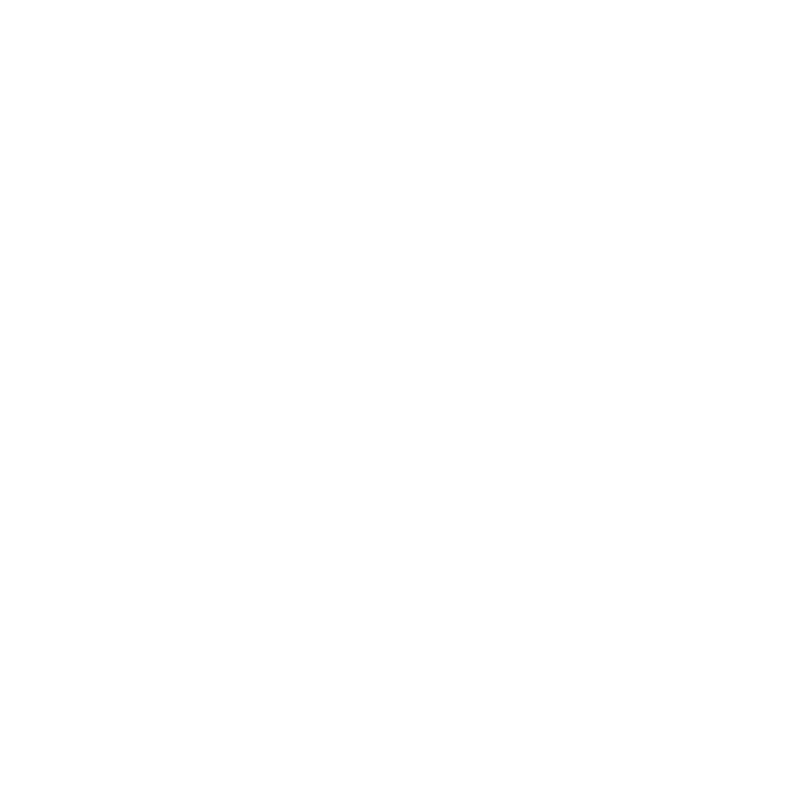
Длилась, нарастала эта светлая таёжная ночь, и всё шли на подъём переживания души, и так работало сердце, что, наконец, почувствовал человек «вершину тишины»! Как сказано и как описано это чувство—чувство вершины, чувство перелома, когда и сам человек не в силах долго оставаться на острие переживания и должен знать меру, посильность и цену великого!
И вот огромное с маленьким смыкается и достигает предела, когда повисает капля, готовая обрушить весь мир. Со всей силой пережитого на войне писатель чувствует погибельное состояние мира и молит каплю, сияющую на талиновом листе, повременить...
И вот огромное с маленьким смыкается и достигает предела, когда повисает капля, готовая обрушить весь мир. Со всей силой пережитого на войне писатель чувствует погибельное состояние мира и молит каплю, сияющую на талиновом листе, повременить...
Потому что она, как символ великой Божьей гармонии и красоты, сияет и держит этот мир в сохранности. Хрупкая, как добро. Но как сказал замечательный батюшка из Новосибирска отец Феодосий: «Если бы не было добра и Бога, зло давно бы победило». Не случайно разговор с каплей происходит, когда спят ребята, за которых Виктор Петрович в ответе, спит Земля, и Виктор Петрович будто бдит этой белой таёжной ночью, охраняет сон планеты, всех её ребят, глухарят, харюзят...
И дальше он говорит о том, что человек нарушил гармонию—это «моя душа» посеяла тревогу, а в природе всё покойно и мудро... И дальше следует потрясающее описание капалухи—это именно она тогда шумно садилась в кедрину. Она не просто полетела, а размять крылья, ведь она на гнезде сидела. И тут целая симфония круговой поруки начинается—и про птенцов, и про то, как трогательно присела птица на пол поклевать прошлогоднюю кислую помятую брусничку. И сразу кажется, будто сам маленький голодный Витька предвоенной весной эту брусничку в игарской лесотундре клевал, как та капалушка. И вот она снова на яйцах: «Горячим телом, выщипанным до наготы, она накрыла яйца, глаза её истомно смежились—птица выпаривала цыпушек—глухарят».
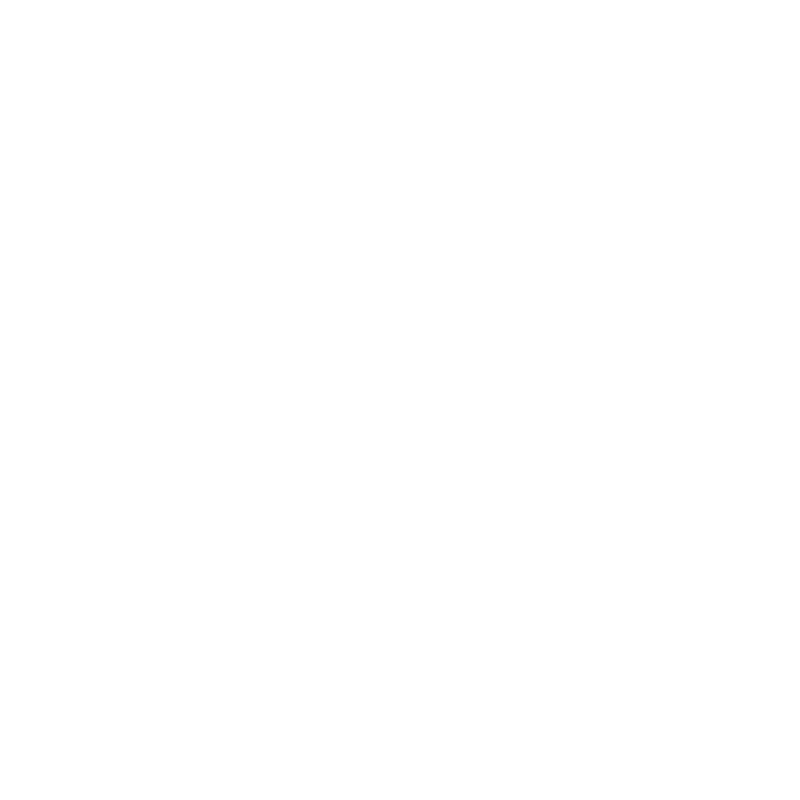
И незаметно за душевной работой подошло утро—и засветились тысячи капель торжествующим сиянием жизни, и спустя четверть века поражённый этим сиянием автор благодарит Бога, что его не убили на войне, что дожил до этого утра.
Тем тайга и сильна, что именно здесь и происходят такие открытия. И везде исполняется великим круговоротом Божий замысел, везде извечные тайны: забота взрослых о маленьких, кормёжка, тепло. И незримо присутствует бабушка писателя—кажется, и с загробной её заботой о маленьких Витьках, Ваньках, Петьках, не по по-детски угруженных жизнью, брошенностью, голодом, ревматизмом... Это книга «Последний поклон». Её тема—великая круговая порука всего сущего, справедливость и благодарность. Агениальный рассказ «Конь с розовой гривой» является потрясающим образцом православного повествования. О том, как добром зло побеждают. Специально не буду пересказывать этот рассказ о прощении и покаянии. Его читать надо.
Чувство земли родной— это единственное, что может двигать настоящим русским писателем. Через окружающий Божий мир познаётся эта земля, через природу и почему-то обязательно через мир растений—по-моему, никто с большей любовью и вниманием не писал о них, чем Виктор Петрович. А его чувство осеннего огорода, кровное и глубинно крестьянское, земляное и предковое... Оно у него врождённое. И доведены до священнодействия осенние приготовления к зиме: подчищение жизни, приборка и заготовка. Здесь и подведение итогов, и успокоение, и волнение от надвигающейся долгой зимы, которую ещё и пережить надо. «Долгая и стойкая зима-прибериха снегами и морозами заклинивала деревенскую жизнь»,—какой ритм потрясающий—и по звуку, и по смыслу. А года голодные были—капустка за лакомство токо уходила.
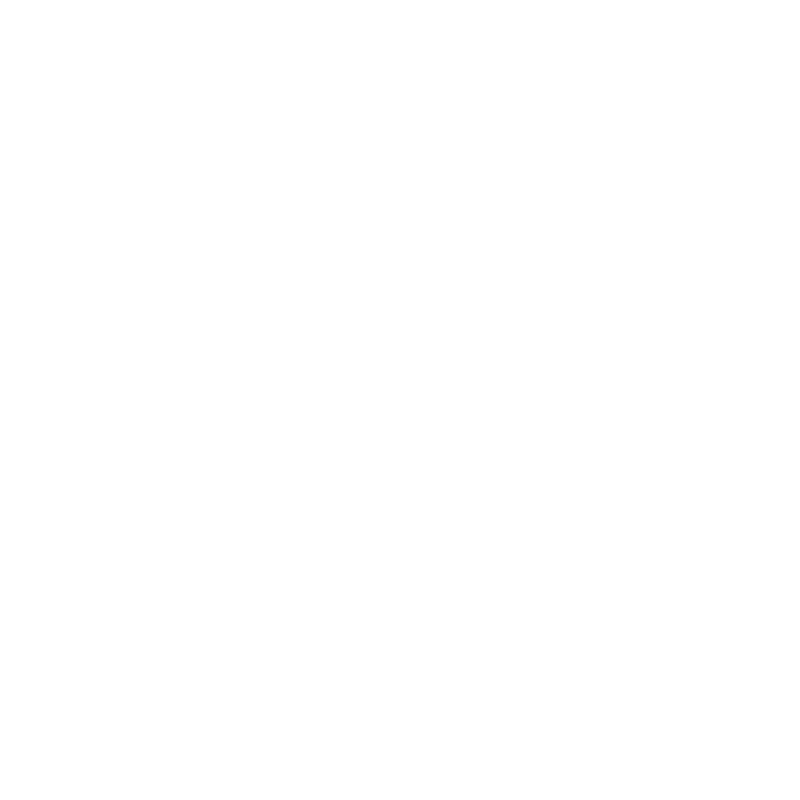
Мелочи часто говорят больше, чем лобовые слова,—именно в способности писателя подмечать подробности любимого мира и является нам его щедрость, его способность дать место любой травинке. И вот корова в огороде осеннем стоит и недоумевает, что же произошло: ещё вчера её в три шеи гнали отсюда, орали, хозяйка носилась с прутом. А сейчас успокоились... Действительно, вот и осень. И бык на Енисее запенился белым подбоем, и гуси пролетели мимо, потому что негде им присесть в скалистых местах астафьевской родины. С ноткой извинения сказал-позаботился писатель об усталых гусях, что из таймырской тундры летят за тысячи вёрст на зимовку, чтобы весной снова вернуться.
И в рассказе «Пир после победы» навсегда остался Астафьев мальчишкой, очарованным мирозданием. Как, пронзённый войной, вернулся домой и идёт по левому берегу Енисея, чтоб потом переправиться в Овсянку... И у речки Караулки забредает в бакенскую избушку к двоюродному своему братишке Мише. Радость, встреча, разговоры, а потом они ловят в сеть тайменя.
Виктор Петрович описывает этого тайменя две страницы. Открывает, как дитя, поражённый его мощью, красотой, и его смертью, и его угасанием. Увеличивая до бесконечности, словно слои снимая, описывает так и сяк его плавник, жабры, каждую крапинку. У него вообще много про угасание ленков и тайменей...
Смерть рыбины он, сам насмотревшийся смерти на войне, уже видит по-другому—не как убийство, а как добычу. И в том находит великое облегчение.
Виктор Петрович описывает этого тайменя две страницы. Открывает, как дитя, поражённый его мощью, красотой, и его смертью, и его угасанием. Увеличивая до бесконечности, словно слои снимая, описывает так и сяк его плавник, жабры, каждую крапинку. У него вообще много про угасание ленков и тайменей...
Смерть рыбины он, сам насмотревшийся смерти на войне, уже видит по-другому—не как убийство, а как добычу. И в том находит великое облегчение.
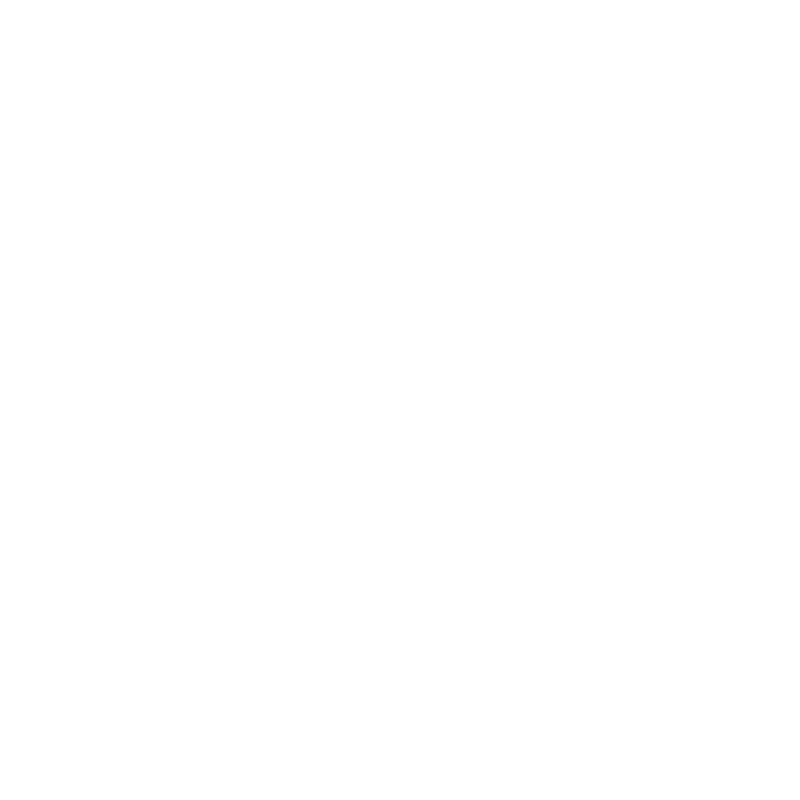
А дальше следует «Последний поклон»—завершающий рассказ, который так и стоит в конце книги эталоном прекрасного, нравственного, непреходящего. И когда добираешься до его встречи-прощания с бабушкой, дождавшейся внука с войны, это читать почти невозможно—настолько сердце разрывается от простых этих слов. Вот какой строгости и силы набрал Виктор Петрович в лучшей своей книге!
Своей главной ноте Астафьев верен во всех произведениях и в потрясающем завещании-обращении к молодёжи: «Верю и надеюсь, что вы будете достойны и нашей памяти, и той прекрасной планеты, на которой выпало нам жить, а вам продолжать эту жизнь».
Астафьев—писатель-поэт, писатель-летописец. И тема летописи— постоянная боль о жизненных изменениях, потому что как даден ребёнку изначальный мир детства, так и кажется, что должен он быть незыблемым. Этой очарованностью детством и болью за рушащуюся жизнь пронизаны все книги Астафьева. Они и нас, читателей, наполняют извечным светом—и через бабушку, и через маленького Витьку, который красоту и горечь жизни так трудно и самоотверженно пронёс через свою долгую судьбу. И не зря бабушка читает молитву Оптинских старцев—в конце рассказа «Пеструха», посвящённого Валентину Распутину.
Трагедия попрания векового уклада, неспособность руководства видеть главное и полное небрежение к судьбам своих трудовых граждан—это одна из непреходящих тем нашей последней литературы. Когда вышла книга В.Г. Распутина «Прощание с Матёрой», когда вся страна смотрела фильм с тем же названием—было ощущение великой силы искусства, силы писателя, способного прокричать об ужасающей несправедливости, о преступлении против Отечества. О том, когда ради чего-то сиюминутного и имеющего весьма условную выгоду ломается самое главное для любого народа—традиция. (А возможный ущерб от ГЭС и ту опасность, которую они представляют в случае чрезвычайной ситуации, вряд ли кто-то из их сторонников просчитывал.) И в те далёкие годы, когда страна внимала этому крику писателя о беде, всем казалось, что в этом и есть задача искусства—повлиять на существующую действительность и если не остановить происходящее, то хотя бы предупредить, предостеречь людей от грядущих ошибок.
Это оказалось величайшим заблуждением. То, что сейчас произошло с Ангарой,— возобновление строительства Богучанской ГЭС —тому свидетельство. То, о чём прокричал Распутин, происходит годы спустя с фатальной настойчивостью. Так же людей готовят к переселению, так же сжигаются деревни, так же плачут жители Кежмы и многочисленных посёлков и деревень Ангары.

Широков Е.Н. Портрет В.П. Астафьева. Этюд. 1969
Филиал КГАУК «Красноярский краевой краеведческий музей»
С горечью хочется подвести черту и сказать: ничему не учится человек, никакая самая гениальная литература не может остановить разрушительную энергию человека, и это ставит перед каждым русским писателем вопрос: а зачем тогда нужна литература, если она ничего не в силах изменить?
И одолеть это сомнение и отчаяние можно только через глубочайшее смиренье перед своей долей—задачей русского художника, который во все лихолетья чувствовал ответственность и обязанность быть летописцем, плакальщиком и защитником родной земли и всегда учился силе у простых русских людей. И у своих героев, таких, как распутинские старухи Анна и Дарья, таких, как Витькина бабушка из «Последнего поклона» Катерина Петровна.


